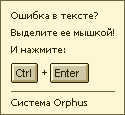Евдокия
рассказ Надежды Захаровой

Этой ночью Евдокия упала. Тело у нее давно высохло. Давно уже ела она в основном хлеб и запивала круто заваренным чаем. Еще с военных времен завелась привычка обходиться малым. Да и потом времена не располагали менять ее. Помнились многочасовые очереди за хлебом, редким гостем в доме молоко. Так как-то сложилось — елось хорошо лишь в далеком-далеком теперь детстве. В семье, где было шесть мужчин и две женщины, работали очень много, зато и хозяйство устраивалось на радость. Огромный сад в сорок яблонь, кузница, маслобойка, круподерня и все подсобное хозяйство, как и полагается в деревне. Крепкая скотина. Полный стол. Все это теперь и не вспоминалось почти, как не было. Очень уж много трудного выпало на долю Евдокии, как только покинула она родительское гнездышко.
Не успела порадоваться своей семье, как сорок первый год забрал мужа, до сих пор в сундуке лежит желтенькая бумажка —пропал в плену. За ним ушла Тамарочка, первенькая. Осталось двое, Коленька и Лиза. Жить пришлось в землянке — родня мужа после похоронки дом забрала.
Работала как все. Тяжко, напрягая все жилы молодого тела, носила пятидесятикилограммовые мешки с зерном в "Заготзерне", отгоняя опасное неотвязное желание положить горсть зернышек в карман на ужин ребятам. А ночью караулила склады с тем же зерном, таская тяжелое ружье. Руки еле держали, глаза закрывались. Однажды не справилась со сном, прислонилась к стене, а тут как на грех начальство. Валялась в ногах, просила не допустить до тюрьмы — дети останутся сиротами, погибнут. На счастье начальник был земляком, пожалел. С тех пор дежурить ночами перестала.
Но не осталось ни обиды на судьбу, ни сожаления. Не думалось как-то о том, что кто-то должен о ней позаботиться. Ни родня, ни государство. От него-то помощи никогда не ждала. Разорвала с ним какую-то внутреннюю нить в день, когда в советской уже школе году в двадцатом второклассников заставляли снимать нательные кресты и петь: "Крест на шее не носить, Богу не молиться", и родители забрали ее из школы. Впрочем, писать и читать она научиться успела. До сих пор с каким-то озлоблением вспоминала, как снимали крестик. Не вспоминалась ни отобранная молодость, ни счастье, ни дом, ни сад, поруганные и пропавшие без всякой пользы, а вот песенка эта помнилась. "Он взял волю" — не произносила никогда имени темного. Тогда, наверное, и случилась та развилка, с которой повернула на свою дорогу Дуня, а многие-многие — на другую.
Постепенно лишения утихали, жизнь налаживаться стала. А привычка к малому так и осталась. Только вот мечта иметь свой домишко всегда была. Пока помогала дочери вырастить внуков, тоже мальчика и девочку, не давала ходу мечте этой, а как дочь с зятем встали на ноги, решилась уходить от них, как ни держали. Купила баню, поставила напротив через улицу, поселилась. Такая радость была. За целую жизнь намоталась по чужим холодным углам. И домишко этот казался надежным и крепким основанием. Так благодарила Бога. Много раз рассказывала внукам в доказательство Божьего промысла над человеком, как пришла дальняя знакомая с сообщением о продаже бани. Лет тридцать, до самой смерти молилась за нее. "Бог сам не придет — человека пошлет" — не раз говаривала.
В домике этом умещались кровать и стол, да еще один человек мог стоять. А второму приходилось забираться тогда уже на кровать. Так внуки и бывали, в основном по одному по очереди. Пили чай с пресными блинами, похожими на хлеб, испеченными на керосинке.
Этой "банёшкой" мечта как-то не исполнилась, не успокоилась Евдокия. Решила поставить настоящий дом. И опять Господь помог. За несколько лет вырос и дом. В ее глазах настоящий дворец. Даже в старости все радовалась на него, гордилась им. Все думала сыну оставить, да сын рано ушел. Завещала внуку, который и жил-то далеко, так далеко, что видеть его приходилось раз в два, а то и в три года. Она все планировала, как можно расширить и достроить дом для молодой семьи, провести газ. Обижалась, когда говорили, что и дом-то успел с ней состариться, и не нужен никому. А так оно и вышло, не нужен теперь никому, так же, как и она сама.
Дом был последней целью здесь, в этой материальной жизни. Построила его и как-то оторвалась от мира. По-прежнему заваривала круто чай, пекла постные блины, да редко жарила картошку на постном масле, иногда пила молоко. Ни мяса, ни "жиров" не ела. О таких продуктах, как колбаса и конфеты не упоминала даже. Им как-то не находилось места в ее жизни. Одевалась в старье (дочь не уставала ругать), покупала в основном только обувь — валенки да "прощайки", вязала чулки из грубой овечьей шерсти и носила их круглый год. Ну, еще любила черные платки, покупала иногда. Один до сих пор сохранился. Тонкий шерстяной с небольшой вышивкой черной шелковой нитью в углу — как раз для храма. Великопостный платок.
А Евдокия постилась теперь всегда. Жила как монашка в миру. С тех пор, как ушел ее Лександра, не знала мужчин, пятьдесят с лишним лет. На квартиру пускала то семейных, то холостых. С кровью впитала от длинного ряда древних предков уважение к мужчинам, сознание их превосходства над женщиной, даже преклонение какое-то. Не смела осуждать никогда даже самых явных пропойц, жалела. Надежных и "самостоятельных" мужчин уважала и слушалась беспрекословно. Незыблемый закон какой-то чувствовался здесь. "Жена да убоится мужа своего". И мужа-то давным-давно не было, и жизнь целой страны тяжкой ношей распределилась и по женским плечам тоже, но главенство мужчины было несомненно, неоспоримо. Это было каменно-твердо заложено в Евдокии. Первый — Бог, за ним — муж, а после, как они скажут. Не оставалось тут места любви, а тем более страсти. Если и было когда-то, давно ушло.
Один из квартирантов ее однажды позарился на нее, помрачился разум — набросился ночью. Молилась Евдокия, боролась — отступился. Утром уехал, а через три дня приехала его жена забрать вещи. Рассказала, с подозрением глядя на нее, что как приехал, слег, почернел весь и умер в одночасье. Осталась Евдокия нетронутой никем, кроме мужа своего.

Дом был больше "домишки" — две комнаты, а обстановка та же. В задней комнате сундук, стол, печка, в углу иконы, в передней кровать, стол. Со временем от дочери перекочевал старый диван и, когда уж и видеть почти перестала, большое зеркало. На стене фотографии детей, а в углу иконы, иконы. Постепенно они заняли и стол, на котором прикрытые чистой тряпочкой лежали Евангелие, Псалтырь, тетрадочка с молитвами.
У стола этого под иконами начинался день и заканчивался. Вся улица, проходя мимо окна, видела тетю Дусю с книгой в руках, бесконечные крестные знамения и поклоны. Чужие считали странноватой, свои злились — отдавала Богу, значит отнимала от них. Пенсию получала, жила одна, а достатка не было. "В церковь протаскивает" — ворчала Лиза. Только внуку перепадало от той пенсии. За все пять лет, что он учился в институте в другом городе, посылала ему "на баню и на пиво". Очень уж дорог был этот внучек ей. Вырастила его, выболела, из самого сердца выпестовала. Вот внучка была далека. С двух месяцев по нянькам, потом по яслям и садам, ни материнских рук, ни бабушкиных толком не знала. Но молилась за всех Евдокия, о здравии и упокоении всех, кого помнила и встречала с худом или с добром на жизненном пути. А пенсию и правда, протаскивала. Подавала записки, ставила свечи, не могла удержаться от покупки икон, крестиков. Приводила оборванных старух домой, кормила-поила. В общем куда-то утекали эти деньги — хотелось храму все отдать, что имела. Сердце уже давно было отдано.
В храм ходила часто, а потом и каждый день, пока ноги носили. Пока силы были, всегда пешком, не один километр — считала, что нельзя в храм на автобусе с удобством, а надо потрудиться. Отстаивала и раннюю, и позднюю обедни. Иногда оставалась после всенощной ночевать, послушать рассказы паломников. В те времена слово это почти исчезло, а люди, ходившие к святыням, остались. Их рассказы потом приносила дочери и внукам. Ох, и доставалось ей от дочери: "Богомолка!" Прости ей, Господи. Так, ей казалось, мир ясно устроен, что много сил и слов полагала она, чтобы снова и снова убеждать, и призывать, и грозить, Потихоньку от дочери и зятя окрестила внуков в огороде, окуная вместо купели в бочку с водой, строго следуя батюшкиной инструкции. Зять был коммунистом, ходил в небольших начальниках, а тогда строго было — узнают — выгонят из партии, а там и из начальников. Сажать правда перестали за это.
Ну, надоедала конечно, правда это. Да ведь как было не говорить, сердце болело от мысли, что гибнет вся семья. Плакала ночами: "Сказал безумец в сердце своем — нет Бога". Снова и снова учила, надеясь, что образумит. Да только ненависть вызывала. Ругали ее, но она не обижалась, уходила, оправдывала. Отлилась ей эта ненависть после, когда уже не слышала, не видела, а потом и не ходила, лежала недвижно — делай с ней, что хочешь. Терпела — за все слава Богу.
Все же не пропали даром молитвы. Внучка после долгих блужданий наконец "уверовала", плакала от радости, как узнала, что та стала ходить в храм.
Теперь Евдокия уже никуда не ходила, почти не видела, различала только свет и тьму, слышала совсем немного. Тихонько ощупью бродила по дому, ждала пока дочь придет, принесет поесть. Та постов не соблюдала, и Евдокия ела теперь все, что принесут, переваривала с непривычки трудно. Кошка, пользуясь тем, что хозяйка не видит, садилась рядом на стол и ела с ней из одной тарелки. Кошки в доме были всегда на правах члена семьи. Все брошенные в округе котята собирались тут, отъедались, подрастали и уходили. Некоторые немногие задерживались надолго, ели хлеб и радовались ласке. Эта, последняя кошка, вскоре пропала совсем — ушла.
Осталась Евдокия совсем одна. Редко приезжала из другого города внучка. Просилась к ней, да та не взяла. Кому нужна обуза. Стригла бабке ногти, толстые и жесткие — ножницы не брали, как-то помыла, вот и все. Евдокия и этому была рада. Торопилась напоследок научить, подсказать, наставить теперь еще правнуков. "Ты бы о детях спросила, о работе, учебе, как живут" — упрекала дочь. Спохватывалась Евдокия, спрашивала, но быстро теряла интерес. Все ей казалось, что это устроится как-нибудь, а вот главное бы не упустить.
Ходить становилось все труднее. Поднималась с постели по крайней нужде. Вот и в эту ночь измучила ее жажда, не дождалась утра, встала, пошла и упала. А встать уже не смогла. Левая нога вывернулась под невозможным углом, сломалась старая кость. Лежала она, терпела боль и холод, пока утром не пришла дочь и чуть не волоком дотащила до кровати, уложила.
Больше она уж не вставала. Ее как бы и не было здесь. Что-то ела, пила. Не слышала, не видела. О чем думала, кто теперь скажет? Лежала дни и ночи одна. Не могла увидеть теперь и любимый угол с иконами, которые еще недавно переставляла трясущимися руками. Вскоре и иконы покинули ее дом. В одну из зимних ночей забрались воры, собрали весь угол и унесли. Не стесняясь, ходили по дому, светили старухе фонариком в лицо, разговаривали в полный голос. Не было рядом с ней ни детей, ни внуков. С уносимых икон последний раз глянули глаза святых. Всё покидало ее, и она всех покидала.
Когда-то, лет тридцать назад, грозила: "Будет Страшный Суд в 2000 году, я не доживу, а вы доживете — увидите". А вот и дожила до конца века. Только, наверное, не знала уже, что наступил новый век. Для нее приближалась своя веха. Ей предстояло и в самом деле предстать на Суд. Да и всем рядом с ней живущим каждый их день и каждый поступок, слово готовили Суд, только по-прежнему им не думалось об этом, а если и думалось иногда, казалось так далеко, что и на правду не похоже.
Умирала Евдокия одна, как и жила одна. Один на один с Богом. Июльская ночь закрыла незрячие глаза, остановила последнюю молитву.
Буднично хоронили, ведь старуха. Дочь прятала горе за хлопотами. Внучка с горечью сожаления читала ночью над гробом Псалтырь. Привезли батюшку отпевать. Всего полгода назад исповедовал ее и причащал на дорогу.
Мужики на поминках как следует выпили, хотя она давно еще просила на ее поминках не наливать.
Из гроба последний раз мелькнуло строгое нездешнее лицо Евдокии. Все. Окончилась эта жизнь.
Не дай нам, Господи, забыть ее веру и нашу глухоту.
В качестве иллюстраций использованы фотографии:
«В конце пути», Виталий Гуменюк
«Под мокрым снегом...», Филипп Володин
|